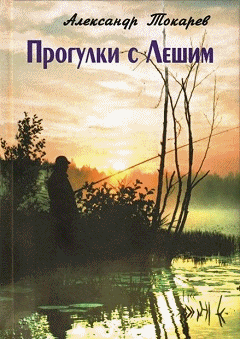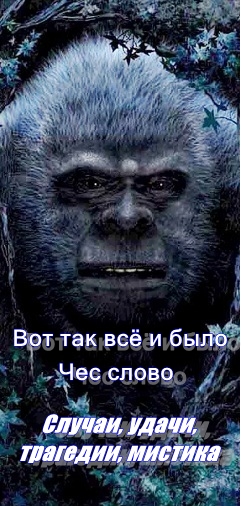Серёжкин омут. Куда уходят души

Было это осенью на ночной ловле налима. Дождь шуршал по пленке, скользил, и звонкими каплями бил в пустой котелок, лежащий у навеса, чмокал в сырые листья. Где-то в ночи слышались осторожные шаги, может быть, чудилось, а может, и зверь бродил. С сосновых вырубок доносился дальний рев лосей, похожий на медвежий рев, если не знать. Гон у них по осенней поре. Шорох шагов перешел в тяжелую поступь. Слышалось и дыхание, сиплое, торопливое. Зверь?! Рука невольно потянулась к топору. Отдернул, застыдясь себя самого: «Ну что ты, что? Любой зверь человека и костра боится смертным страхом. А шпану сюда потемну ничем не за¬манишь. Слабы они душонкой, оттого и с ножами ходят. Рыбак припозднился, наверное», – решил я и стал ждать.
Вскоре из кустов с треском выбрался человек в мокрой телогрейке. Остановился, глядя на костер. Потом подошел.
– Здорово, – буркнул неприветливо. Он был еще в сумраке, из¬бегая света костра. – На ночь, что ли?
– Здравствуйте, – ответил я осторожно, не определив по голосу возраст незнакомца.
– Придется тебе, парень, потесниться, место-то мое.
– Написано на нем?
– Ишь, ты, дерзкий... Не боишься? А если я со стволом, а?
– Со стволами не здесь ходят.
Наступило тяжелое молчание,
– Ладно, - нарушил тишину незнакомец, – Арсений я, Николаевич... Смотрел я на тебя, может, думаю, мозгляк какой?
Он подошел к костру, сел, устало щурясь на пламя. Не старое еще лицо бороздили глубокие морщины, контрастно выделенные в свете ко¬стра, Глаза были пусты, равнодушны до тоскливости, или казалось так... Он усмехнулся, дернув щекой,
– Ты думаешь – из-за места я?.. Рыбачь, не жалко, все равно без снастей.
– А чего ж тут без снастей-то делать?
– Мой это интерес…
Помолчали.
«Ондатру, наверное, промышляет, дядя, а может, лося решил завалить? Больно дремучий мужичок, бирюк-бирюком …», – гадал я. А пришлый человек неожиданно спросил:
– Сколько хоть лет-то тебе?
– За тридцать…
– Тридцать... Ему тоже было бы тридцать...
– Кому ему?
– Да, тридцать, – продолжал Арсений Николаевич, не слыша, – Сергунок ты мой, вот я и здесь, здесь я… ты прости, не углядел.
Он схватился за голову и замычал, забормотал что-то несвязное, обращаясь к кому-то только ему видимому,
Мне стало по-настоящему жутко. Коротать ночь один на один с безумным стариком?
– Слышь, дядя, ты чего?
– А-а, ты это? Испугался? Не бойся, не кусаюсь я, мух и чертей тоже не ловлю. Грех на мне большой, давит.
– Убил кого?
– Убил?! Может ты и прав… Ладно, слушай. Все равно – человеческая душа, мо¬жет, и поймешь чего... Молодой я еще был, ну, как ты. После армии подурил немножко, сам знаешь – компании, девочки, бывало, и в КПЗ ночевал, о женидьбе и не думалось, а встретил Светлану – вроде жизнь снова начал. Поженились. Сын, Сережка, родился. Не удался он – здоровьишком слабоват был. Начал я его по лесам да озерам возить, как меня батя возил в свое время. Окреп он и чуть что: «Папка, когда на рыбалку возьмешь?» Без рыбалки не мог. Сюда мы каждую осень приезжали. Приехали и в ту, осень... Сережка по берегу бегал, топал. Сердился я на него. Знать бы… К вечеру я за костер взялся, сын сучья таскал. А потом гляжу – нет его, а в круговерти, вон, где и сейчас течение в обрат, мелькнуло что-то вроде, булькнуло. Сережка! – кричу. С ямы только пузыри пошли. Я не помню, как нырнул... Облазил весь омут, все топляки поднял, нахлебался сам под завязку... Осталась только одна мысль: найти, найти, пусть мертвого, прижать кровиночку!
Арсений Николачевич захрипел удушливо, словно выталкивая из горла комок. Потом, немного успокоившись, продолжал. – Нашел я его, ногами нащупал. Поздно было уже. Положил Сережку на песок, так и просидел с ним всю ночь. Кричал на него... Не знаю зачем... Хохотал лешаком, волком выл, выл так, что лес, наверное, качался, а утром завернул его в палатку и повез домой. Светлану в тот же день на скорой увезли, а после похорон ушла она от меня...
Арсений Николаевич замолчал. Потом поднял затяжелевшие болью глаза на меня.
– Ты, парень, мне больше не мешай. Каждый год я сюда приезжаю... в этот день, с сыном повидаться...
Он уронил голову на грудь и начал говорить ласково, тихо: «Сергунчик, вот и папка твой, ты прости...» И чудилось мне, будто не ночная птица кричит жалобно, а детский голос в ответ баюкает: «Ничего, папка, ты не плачь, не плачь, все пройдет, папка...» Мелькнуло, будто, что-то у лица, задело, словно крылом, вздохнули деревья: «Ничего, папка, ничего-о-о...»
Утром Арсений Николаевич ушел, кивнув угрюмо на прощание, словно сожалея о расплеснутой, высказанной чужому боли.
Засобирался и я. Снял с закидушек несколько крупных налимов, сложил со снастями в мокрый рюкзак. Зашагал по скользкой тропе, а вскоре и на песчаную дорогу вышел. Проходила она по сосновым буграм, по веселому чистому лесу.

Включил приемник, лежавший в нагрудном кармане. Передавали «Времена года» Чайковского, месяц октябрь... Печальная строгая мелодия вплелась естественно в шелест дождя, в далекий плач кукушки. Лес парил... Стволы берез, сосен сочились терпкой влагой, от которой в бору пронзительно веяло свежестью. Мелодия вздыхала вместе с ветром, была тихой, как раздумье, и резало, резало до слез где-то в груди от этой страшной по красоте музыки. И слышалось мне в ее угасании: «Ничего, папка, ничего-о-о»
Автор: Александр Токарев